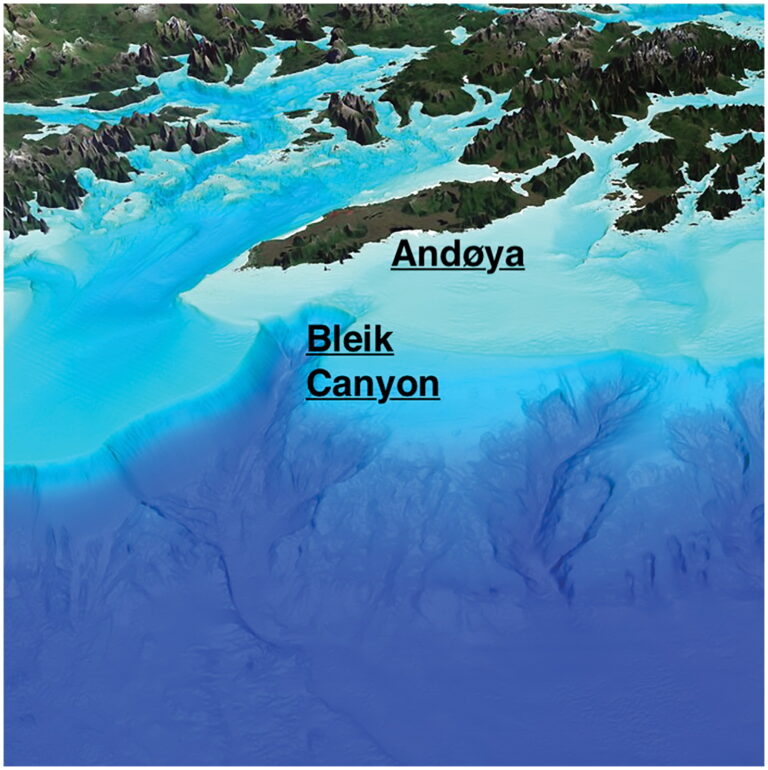Вторая поездка на Андію (июнь 2022) добавила новые сложности в диалог, поскольку норвежская команда присоединилась к исследователям из Дарема. Во время экспедиции мы работали в двух режимах. Во-первых, мы сосредоточились на своих методах. Иногда это означало работу отдельно, например, запись звуков в море или интервьюирование местных жителей. Даже при встречах и посещениях мы заранее не договорились о вопросах или методах. Важно заметить, что для большинства участников это было исследование в исследовательском режиме — с целью понять контекст и определить интересующие вопросы, а не собирать данные по заранее заданным темам. Мы шли в «поле» для открытия нового вопроса, а не для получения ответов.
Во время второго визита, помимо новых дисциплинарных взглядов и методов, мы расширили наши связи с материальностью и историей места. Это стало возможным благодаря взаимодействию с местными художниками, учёными и туристическими организаторами, а также благодаря хорошей погоде, позволившей проводить исследования на море. В сотрудничестве с Центром по изучению и развитию морской среды «Кит» (https://www.thewhale.no), создаваемым в Анденес, мы провели общественное мероприятие, на котором выступали местные морские биологи и художники. Мы подписали письмо о намерениях, подчеркивающее возможность дальнейших программ, связанных с этим проектом. Это мы видим как долгосрочную, открытую стратегию создания знаний и художественных произведений, актуальных для местных организаций и населения, помогая выразить их заботы.
Размышления о поле
Наш метод работы на «поле» — относительно независимый, несмотря на близость в географическом и интеллектуальном плане — был зафиксирован частью намеренно и частично по случайности. Уже на предварительных семинарах осенью 2021 года мы обнаружили, что задаваемые вопросы и способы взаимодействия с «данными» сильно отличаются. Хотя мы смогли выявить объединяющие темы (относительно звука и места в арктической морской среде), мы понимали, что, вероятно, нам не стоит пытаться строить работу вокруг одного общего вопроса или метода. Перед первой поездкой в январе обсуждение того, что мы будем делать в «поле», было заторможено вопросами о возможности поехать туда из-за COVID-ограничений. Когда же все мы в июне 2022 года прибыли на Андію, уже были налажены рабочие отношения, и каждый участник команды развил внутренний спрос на определённые проекты. В результате, как по сути, так и по намерению, наша работа была представлена как непланируемое чередование микро-исследований, Many из которых выполнялись индивидуально.
Может показаться парадоксальным, что, несмотря на то, что звук объединял нас всех, он одновременно предоставлял пространство для автономной работы. Как отмечено выше, сам по себе звук не предписывает конкретных методов или ориентации. Он поощряет эксперименты и открытость — к различным технологиям, голосам, ощущениям и способам познания. Эта открытость звука позволяет открыть новые горизонты для сотрудничества, но одновременно не диктует конкретных вопросов или методов. В условиях, когда цели проекта — междисциплинарность, заранее заданные идеи о включении звука в определённой форме могли бы ограничить креативный потенциал и снизить влияние «поля» на исследования.
Кроме того, согласие на междисциплинарное сотрудничество не означало принятия единого решения отказаться от наших методов. Это было бы исключением тех знаний и интересов, которые объединяли нас изначально. Вместо этого, учитывая нашу заинтересованность в междисциплинарности, мы решили исследовать синергии через концентрированный опыт в поле, выбирая место с разным уровнем знакомства: от тех, кто проводил исследования в сообществе, до тех, кто никогда не был в этом регионе. Совместное исследование создавало пространство для рефлексии — как коллективной, так и индивидуальной, что важно для любого исследования (Kanngieser и др. 2024; Steier 1995).
Сложности сотрудничества выходили за пределы времени и пространства поля. Это зависело не только от того, что каждый из нас приносил, но и от того, что происходило после. У каждого были обязательства перед внешним миром: коренные сообщества, музыканты, кураторы, соавторы и другие соучастники. Эти обязательства формировали наш командный труд. Также важными были вопросы будущего. Будем ли мы продолжать работать вместе или в отдельных проектах? Есть ли у нас ресурсы (время, финансы и др.) для повторных экспедиций на Андію — совместных или отдельных? Если да, то продолжим ли исследовать звуковые и звуковые ландшафты, или сосредоточимся на новых темах, выявленных в ходе полевых исследований? Как наше участие в этом проекте сочетается с нашими профессиональными страстями, ответственностью, карьерными планами и институтскими ограничениями? Вопросов много, и многие из них остаются открытыми, в том числе и на момент написания текста. очевидно, что их нельзя было бы решить только общим интересом к звуку.
Множество подходов к работе в поле требовали разного технического обеспечения, взаимодействия с разными сообществами, и создавало логистические вызовы: необходимость использования разных технологий, перемещений, учёта языковых особенностей, доступа к местным жителям, благоприятной погоды. «Данные» — таковыми для каждого из нас — имели разную природу и отражались на наших возможностях не только в реализации проекта, но и в дальнейшем развитии. Например, композитор Эрик мог вдохновиться несколькими днями наблюдений на Андіи и включить это вдохновение в музыкальную композицию. Сузанна искала биологические данные, которые могла бы использовать для своей художественной переработки. Боб требовал биологических данных, его требования к выборкам были очень разными из-за целей работы. Джана, художник, долгие часы слушая море, стремилась уловить и воспроизвести звуки, связанные с ландшафтом, природой и человеческой деятельностью, в своей музыке, передавая ощущение жизни и её ценности. В то же время, социальные науки — Бритт, Джесси и Фил — рассматривали работу в поле как пилотную, даже экспериментальную, а не как создание готовых данных или завершённых результатов. Поэтому в разные моменты работы возникали разные потребности и взаимодействия, иногда даже мешающие друг другу, что требовало нестандартных решений и понимания аспектов сотрудничества.
Помимо индивидуальных подходов, мы учились друг у друга. В некоторых случаях — через наблюдение в поле, например, Джесси и Фил сопровождали Эрика во время съемки музыки, слушая, как он организует работу с микрофонами и рассказывает о своем творческом процессе. Во многих ситуациях такие возможности не возникали (см. выше — лодки, морская болезнь, языковой барьер). Поэтому мы также часто обсуждали результаты работы за ужином, делясь впечатлениями и задавая вопросы друг другу. Эти разговоры записывались для дальнейшего анализа, создавая дополнительный архив звука, воспринимаемый как первичные данные, вторичный анализ или игнорируемый — в зависимости от подхода каждого участника.
Каждый из нас также привнес понимания и личные отношения с природой и антропогенной средой, которые выходили за рамки профессиональных практик. В течение недели мы размышляли о своих связях, обсуждая, например, во время ужина вопрос о научных измерениях северного сияния и о том, есть ли у него звук, что перешло в размышления о реакции природы на человека и ответственности за нее. Различные способы знания, личный опыт и субъективность переплетались с пониманием и жизнью в материальном мире, что можно рассматривать как проявление и отражение концепции «интраакций» Барэд (2007), где значение и материя — две стороны одного процесса. Эти связи развивались благодаря совместной работе, диалогам и, особенно, чувствительному исследованию. Каждый день мы учились слышать, чувствовать, слушать и размышлять глубже, иначе и более остро — иногда затрагивая темы «звуковой колониальности» (Kanngieser 2023), что оказывало влияние на наши слушательские практики. Например, посещение сакрального саамского места вызвало у некоторых участников-несаамов размышления о пробелах, амбивалентностях и наследиях колониальной культуры, а также о более широком историческом контексте. Это было продуктивно, но и утомительно, особенно без специально выделенного времени для написания заметок и осмысления.
Обсуждения зачастую выводили нас к инсайтам, мало связа с именно со звуком. В ретроспективе, это неудивительно — звук использовался не как цель, а как мост, позволяющий преодолевать языковые и методологические барьеры. Именно это было основной идеей исследовательского дизайна. Как отмечено выше, в ходе начального визита на Андію местные рыбаки не могли (или, по крайней мере, не хотели) отличить звуковые знания от других ощущений — таких как ощущение волн, чтение окраски воды, формы облаков, наблюдение за морскими птицами или использование прошлого опыта и межпоколенческих знаний. Мы обнаружили, что звук — полезный инструмент для объединения разнородных исследователей в междисциплинарную команду, привлекая внимание к разным способам слушать. Однако он был менее эффективен для распознавания знаний и убеждений участников исследований.
Чтобы проиллюстрировать другой пример, во время второй поездки на Андію мы оказались в напряженной координации с группой чаек, гнездящихся рядом с арендованным домом. Спеша к машине или обратно, мы постоянно смотрели вверх, надеясь избежать клювов или атак птенцов, которых родители обучали ходить. В этой межвидовой ситуации главным образом проявлялся звук — чайки использовали звук (безуспешно) для отпугивания и (чуть более успешно) для предупреждения о потенциальной опасности для себя и потомства, а мы использовали звук (также безуспешно), чтобы коммуникацией показать — мы не причиняем вреда. В итоге, взаимодействие вышло за рамки звука и затронуло более широкие вопросы сос существованием видов, совместного проживания и взаимодействия, сочетающие конфликт и синергию.
Обсуждения также часто приводили нас к инсайтам, которые практически не касались исключительно звука. Оглядываясь назад, это было неудивительно, поскольку звук использовался как средство для преодоления языковых и методологических барьеров, а не для постановки вопросов. В действительности, это было одним из руководящих принципов при планировании исследования. Поэтому, по мере того как звуковой фокус открывал новые направления исследований, они часто отходили от чисто звуковых аспектов. Как отмечалось ранее, во время нашего первого визита на Анёю мы обнаружили, что местные рыбаки не умеют (или, по крайней мере, не хотят) различать звуковые знания и другие формы восприятия, такие как ощущение волн и течений, чтение цвета океана, формы облаков, наблюдение за морскими птицами или использование опыта прошлых поколений и межпоколенческих знаний. Мы поняли, что, хотя звук был полезным инструментом для формирования междисциплинарного подхода у разнородных исследователей, привлекая наше внимание к различным способам слушания, он менее эффективен для анализа знаний участников исследований.
Чтобы проиллюстрировать это на другом примере, во время второго визита на Анёю мы оказались в напряжённом соседстве с семейством чаек, гнездящимся рядом с домом, который мы арендовали. Спеша от дома к нашему авто и обратно, мы постоянно смотрели вверх, надеясь избежать нападения клювами и вниз, чтобы не тревожить птенцов, только начинающих ходить (которые находились под защитой родителей). На одном уровне это взаимодействие было звуковым: чайки использовали звук (безуспешно), чтобы отпугнуть нас, и чуть более успешно — чтобы предупредить нас о возможной опасности для себя и потомства, а мы использовали звук (также безуспешно), чтобы передать, что не представляем угрозы. Но в конечном итоге взаимодействие вышло за пределы чисто звукового и перешло к более широким вопросам сосуществования видов и способов жизни, одновременно противостоящих и взаимодополняющих друг друга.
Исследования межмирных связей
Как уже отмечалось, междисциплинарность требует не только добавления новых техник или вопросов в исследование, но и переосмысления целей и структуры исследования. Вспоминая наш опыт работы на Андіи, мы понимаем, что пространство или «поле» всегда многослойное и формируется в процессе развития вопросов и стратегий вывода, а также является ареной для обращения с историческими прошлыми, зачастую остающимися невысказанными.
Во время работы в Андіи наши теоретические и философские подходы и рабочие практики стали заметны всем участникам — как мы развивались в рамках общего пространства. Поле — это место совместного присутствия, где реализуются общие концепции, взаимодействуют материалы и идеи разных дисциплин, даже при использовании различных методов и подходов. Это было смыслом, ведь мы не просто «разговаривали»; нужно было слушать, учитывать агентность, показывать уважение к разным формам выражения, быть внимательными к языковым и иерархическим структурам знания. Наше стремление к междисциплинарности требовало rethink существующих концепций и подходов, создавалось новое доверие, интерес и взаимное понимание, связывающие вопросы, идеи, наблюдения и связи с окружающим миром, нашим опытом и работой. Беседы не сводились только к диалогу между науками; они включали местных участников, неслышащих и невидимых, а также материальные аспекты места, что делало исследование сложным, динамичным и многоаспектным.
Можно ли считать, что исследование на Андіи действительно было совместным производством? Хотя мы привлекли местных жителей как соучастников (лично и через организации, такие как «Кит»), и использовали их помощь для формирования вопросов и методов, сама исследовательская повестка оставалась за нами. Однако открытый характер междисциплинарных проектов и гибкость, необходимая для их функционирования, совпадают с требованиями к со-производству. Можно сказать, что есть большие пересечения между движениями по со-производству и междисциплинарностью, и их стоит исследовать дальше в следующей итерации проекта.
Другим аспектом взаимодействия, который рассматривался в рамках проекта — это отношения между «учёными» и «художниками». Эти два термина мы взяли в кавычки по нескольким причинам: двое из трёх художников (Эрик и Сузанна) занимают академические посты, и все трое активно участвуют в исследовании. В дополнение, эти категории сильно отличаются: звуковой художник работает совершенно иначе, чем классический композитор, также как и биолог кардинально отличается от междисциплинарного исследователя-азиата, специализирующегося в антропологии. Несмотря на эти различия, в ходе работы было много примеров, когда учёные вдохновлялись художниками и наоборот. Например, наблюдение Боба за работой Эрика, Яны и Сузанны — их взаимодействия с береговой линией и интерпретации, которую он увидел в них, — привели к новым идеям о взаимодействии сухопутных и морских экосистем. Обсуждения Джесси с Эриком и Яной о созвучиях и процессах композиции — также углубили её понимание связей технологий, тел, и окружающей среды в создании знаний о границах морского и сушинного мира. Композиции Эрика о напряженных пересечениях истории саамов и норвежцев, включающие эмоции и выводы, вдохновленные священными камнями и культовыми объектами саамской культуры, оставили глубокий след в понимании культурных и природных связей. Описание Яной процесса записи и музыки, которая отражает холод, ветер и морские истории — оказало влияние на работу Фила, в частности, в изучении культурных и эмоциональных аспектов геофизических сил в океане и их правовой и научной интерпретации. Влияние этого опыта продолжает ощущаться даже после возвращения участников из «поля».